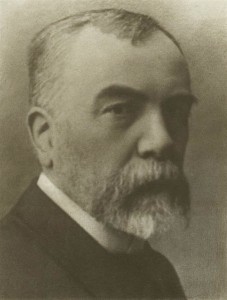Слева направо: протоиерей Александр (Шмеман) и митрополит Антоний (Сурожский)
Сегодня мне попалось высказывание М.Монтеня: "Просто жить не только самое главное, но и самое замечательное из твоих дел." И в связи с этим я почему-то вспомнила протоиерея Александра Шмемана. К глубокому огорчению однажды забрела на сайт под красивым названием «Ортодокс», где в недвусмысленной форме и крайне неуважительно отзывались о священнослужителе, который уже почил по Бозе, никогда не был запрещен в церковном служении. И мне вспомнилась та душевная боль, которую испытала тогда там, на сайте. Отчего? Мне стало по-настоящему страшно, что кто-то, читая, решит, что это и есть «настоящее» православие. Кто-то, кто еще не успел узнать, что Бог – это совершенная любовь и истина. Что Бог, всегда ищет, чем оправдать и помиловать, а не осудить. Что страшные слова о расправе над людьми иных мнений и взглядов от имени «хранителей православной веры», говорит простой смертный человек, который сам взял право судить и грозить. И по нему могут составить представление обо всех нас. Неужели настали времена, когда православным нужно защищать православие от «православных» же?
Протоиереем Александром Шмеманом были написаны книги, оставлены дневниковые записи, беседы и проповеди. Мне хотелось бы сегодня привести здесь предисловие к его книге: «Церковь, мир, миссия: Мысли о православии на Западе», написанное протоиереем Валентином Асмусом для того, чтобы хоть как-то изгладить впечатление, которое может создаться о нас, православных, у тех, кто только начал знакомиться с основами нашей веры по таким сайтам, как "Ортодокс".
«Протопресвитер Александр Дмитриевич Шмеман (13.09.1921—13.12.1983) родился в г. Ревеле, в семье офицера Лейб-Гвардии Семеновского полка. В 1928 г. покинул Эстляндию и после краткого пребывания в Белграде поселился в 1929 г. в Париже. Семья, принадлежавшая к высшему кругу, хранила православные устои. Рояль, на котором любила музицировать мать, на Великий пост запирался на ключик. Александр Дмитриевич с раннего детства прислуживал за богослужением, в дальнейшем был иподиаконом митрополита Евлогия (Георгиевского).
В 1940 г., через два месяца после прихода немцев в Париж, Александр Дмитриевич поступил в Свято-Сергиевский Богословский институт, стал одним из последних слушателей прот. Сергия Булгакова. Одно время слушал также лекции в Сорбонне. Из профессоров Института был близок к архим. Киприану (Керну), с которым познакомился еще до поступления в Институт и в чей приход был назначен после рукоположения во священника в 1946 г., и к А. В. Карташеву, сделавшему его своим преемником в преподавании истории древней и Восточной Церкви (когда в 1945 г. Александр Дмитриевич получил степень кандидата и остался при Институте профессорским стипендиатом). Литературные плоды этого периода деятельности о. Александра — книги "Исторический путь Православия" (3-е изд. Париж, 1989) и "Церковь и церковное устройство" (Париж, 1949), статьи о византийской теократии — "Судьба византийской теократии" и "Догматический союз" (Православная Мысль. Вып. 5, 6. Париж, 1947-48). В этих последних работах о. А.Шмеман совершенно справедливо указывает на "несомненное единство и согласие всей византийской традиции в утверждении религиозной природы и миссии Царства". Наконец, о. Александр делает перевод еще не изданного трактата святителя Марка Эфесского "О воскресении" (Православная Мысль. Вып. 8. Париж, 1951). Но, по-видимому, все эти публикации — только части задуманных им больших трудов — курса по истории византийской Церкви IX—XV вв., монографии о св. Марке Эфесском и исследования о византийской теократии (см. автобиографическую заметку о. А.Шмемана в "Вестнике РХД". Париж, 1984. № 141. С. 21—24).
Переломный момент деятельности о. Александра -— переселение в 1951 г. в США по приглашению Свято-Владимирской Семинарии в Нью-Йорке. Эта семинария (деканом, т. е. главой которой о. Александр был с 1962 г. до конца своих дней) принадлежит бывшей Русской Митрополии в Америке, еще в 1927 г. попытавшейся объявить себя "независимой автономной Церковью в Северной Америке", что в дальнейшем привело к каноническому разрыву с Московской Патриархией. В 1970 г. общение с Москвой было восстановлено при одновременном получении от Московской Патриархии Томоса об автокефалии Православной Церкви в Америке (ПЦА). В подготовке этого события, равно как и во всей жизни Американской Автокефалии периода ее становления, о. Александр Шмеман принял немалое участие, и этим, в первую очередь, объясняется его полемика, иногда весьма резкая, со всеми противниками ПЦА, будь то Константинопольский Патриархат или Русская Зарубежная Церковь.
В области собственно богословской американский период жизни о. А. Шмемана отмечен решительным обращением к литургической теме. В эти годы он пишет свою докторскую диссертацию "Введение в литургическое богословие" (Париж, 1961) и целый ряд книг, адресованных небогословам: "Великий Пост" (3-е изд. Париж, 1990), "За жизнь мира" (Нью-Йорк, 1983), "Евхаристия" (2-е изд. Париж, 1988) и "Водою и Духом" (Париж, 1986). Избранные проповеди из примерно трех тысяч, прозвучавших по радио, вошли в книгу "Воскресные беседы" (Париж, 1989).
Кратко и весьма схематически суммированные идеи о. Александра сводятся к четырем основным понятиям: актуализации, редукции, номинализму и секуляризации. Первое он связывает с таинством Евхаристии, которое не просто совершается Церковью, но осуществляет Церковь как единство Тела Христова и есть поэтому предвосхищение благодатной эсхатологической полноты. Из этой основополагающей интуиции о. Александр делает целый ряд теоретических и практических выводов, иногда спорных, порой идущих вразрез с многовековой практикой, но их надо рассматривать все же отдельно от этого основного видения Евхаристии как Церкви и как Царства Божия.
Остальные три понятия раскрываются им в связи с критикой современной жизни, и прежде всего жизни церковной. В ходе истории (этот исторический акцент весьма характерен для о. Александра, но по существу он не единственно возможный: на первый план могла бы быть выдвинута, скажем, извечная человеческая ограниченность и поврежденность грехом) духовная жизнь редуцируется, т. е. сводится к отдельным, и не всегда самым главным, своим составляющим. Например, реальность Богообщения сводится к субъективным психологическим переживаниям человеческой души, Таинства — к "красивым обрядам" и т. д. и т. п. А чрезвычайно широкое понятие номинализма подразумевает среди прочего такое использование священных и почтенных "имен" и названий, за которым не стоит обращение к обозначаемым ими реальностям. И, наконец, секуляризация (этот историософский термин становится основополагающим уже у одного из учителей о. Александра прот. В. В. Зеньковского) — отказ от самого существа религиозной жизни, при котором Церковь полностью теряет свое собственное значение и призвание, но может, впрочем, "цениться" как "сокровищница культуры", политическая сила или "твердыня национального духа".
При всем громадном даре и личной незаурядности, при всей новизне тем и методов о. Александра, в его сочинениях нельзя не увидеть влияния глубоко воспринятого им наследия: и русской — дореволюционной и эмигрантской — богословской науки (о западной и говорить нечего, так как обращение к ней естественно и неизбежно для православного богослова, живущего на Западе), и русской религиозной философии (читатель нижеследующих страниц вспомнит и о софистической диалектике Владимира Соловьева, и о радикализме Бердяева, и о многом другом).
Настоящая книга для многих будет большой неожиданностью. Она, возможно, примирит с о. А. Шмеманом тех, кто воспринимает его богословие критически и в то же время разочарует тех, кто делает из его трудов далеко идущие, иногда прямо протестантские, выводы. Главная ее особенность в том, что она обращена не к православному читателю, как, пожалуй, все вышеназванные, а преимущественно к американским католикам и протестантам. Отец Александр, знаменитый критик "исторического православия", выступает здесь как защитник Православия перед лицом западного христианства, и, критикуя последнее, исходит не из отдельных его изъянов, но из кардинального отступления Запада от веры и жизни древней Церкви. Тех, кто привык считать о. Александра поборником не только идеи "американского православия", но и Америки как таковой, озадачит суровая оценка американского духовного тоталитаризма, в котором он усматривает близкий аналог тоталитаризма советского. Тех же, кто считал его судьей "византинизма" (не говоря уже о таком порождении "византинизма", как Русская Церковь), удивит апология непреложного значения византийского опыта и констатация того, что Православие, несмотря на все исторические искажения, в целом сохранило сердцевину церковной жизни, утраченную Западом.
Думается, наследие протопресвитера Александра Шмемана останется пререкаемым и впредь. Издавая его сборник, мы не солидаризируемся с каждой идеей автора. Но мы полагаем, что в современном многоголосии должен быть услышан и его голос, призывающий, в конечном счете, к тому, что есть "единое на потребу".»
Пасха Христова, 1996
Из этого предисловия очевидно, что можно не быть солидарными с каждой идеей автора. И при этом не умалять его голоса, призывающего к тому, что есть «единое на потребу».
Далее хотелось бы привести некоторые из высказываний протоиерея Александра Шмемана, чтобы вы смогли составить некоторое представление об авторе этих слов.
«…Тем, кому дан дар жизни — и это значит: “религиозное” ее ощущение, гораздо меньше нужна “религия”, которая почти всегда от недостатка, а не от преизбытка, от страха перед жизнью, а не от благодарности за нее. И эта безрадостная, безжизненная религия отталкивает. Отталкивает прежде всего потому, что обращена к жизни осуждением и злобой. “Всегда радуйтесь, за все благодарите”: это разве звучит в нашем измученном собственной историей христианстве?»
«…множество верующих, не исключая и представителей духовенства, часто понимают христианство как некую совокупность правил, норм, ритуалов, которую охотно отождествляют с церковным Преданием. При таком номистическом, или законническом разумении веры внешнее оказывается неизбежно важнее внутреннего. То, что в конкретный исторический момент времени было свидетельством живого творчества духа, воспринимается благочестивыми, но не вошедшими в разум Истины верующими, как закон, обязательные вериги, ибо подлинно духовного мерила у них нет, а передать оное из рук в руки невозможно: его необходимо стяжать. «Царство небесное силою нудится…».
«Вера говорит о послушании…. только в ней свобода (послушание Богу есть единственная в этом мире свобода и источник свободы)».
Церковь Божия — «есть дом, из которого каждый уходит “на работу” и куда каждый возвращается с радостью, чтобы дома найти саму жизнь, само счастье, саму радость, куда каждый приносит плоды своего труда и где все претворяется в праздник, свободу и полноту. Но именно наличие, опыт этого дома — уже вневременного, неизменного, уже пронизанного вечностью, уже только вечность и являющего, — только это наличие может дать и смысл, и ценность всему в жизни, все в ней к этому опыту “отнести” и им как бы наполнить».
«Меня всегда утомляют люди без чувства юмора, вечно напряженные, вечно обижающиеся, когда их низводят с высот, «…» смех спасителен и нужен больше, чем что-либо другое».
«Я глубоко убежден, что подлинное религиозное чувство абсолютно несовместимо ни с каким “украшением”, ни с какими благочестивыми словесами. И когда христианство становится украшением, а не красотой, благочестием, а не верой, оно выдыхается».
«Снимая маску, “шокируешь” людей: как это он стал самим собой? А маской исправляется все: и то, что говоришь, и то, что делаешь. И как легко растворить личность в маске и полюбить эту маску…».
«…Христианство есть всегда проповедь — то есть явление того, другого, высшего плана, самой реальности».
«Христианство требует, абсолютно требует простоты, требует «светлого ока», «зрячей любви». Оно извращается всюду, где есть надрыв, где “естество на вопль понуждается”».
«Все выбираем себе в “предании“, что нам по вкусу: кто Древнюю Русь (старобрядчество), кто Паламу, кто Афон <…>, но я не вижу “пользы” от этой монашеской диеты, безостановочно преподносимой людям в качестве какой-то самодовлеющей “духовности”. Мой опыт таков: как только люди решали эту “духовность” вводить в свою жизнь, они становились нетерпимыми, раздраженными фарисеями. Я ни секунды не отрицаю реальности, подлинности монашеского опыта (Добротолюбие, “старцы” и т.д.). Я только убежден, что, как и богослужение, как и почти все в церковной жизни в наши дни, он “транспозицируется” и воспринимается в другом ключе, в ключе, прежде всего, того психологического эгоцентризма, что составляет основную тональность нашей эпохи».
«Так, например, один из основоположников протестантизма Кальвин в самый центр своего понимания христианства поставил учение о предопределении, согласно которому одних от самой вечности предопределил и избрал Бог к спасению, а других к гибели. Но, конечно, не может наша христианская совесть принять это страшное учение. Сказано нам словами апостола любви: «Бог – любовь есть» (1Иоан.4:8). Сказано, что Он послал Сына Своего, чтобы ничто не погибло, но все было спасено. «…» вера есть дар Божий, и дар этот дан всем, действительно каждому человеку, как и сказано в чудной церковной молитве о свете Христовом, просвещающем всякого человека, грядущего в мир.»
«Если кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Мар.10:15). Что это значит? Это значит, прежде всего, что ребенку свойственно саму жизнь воспринимать как некий рай, что в его восприятии все целостно, радостно, все – доверие, и это значит, в глубочайшем смысле этого слова, – вера. Только эта вера еще не отделена от жизни, еще не противостоит ей, она и есть то доверие, которое ребенок оказывает всему и всем, веря, что от всего и от всех к нему только любовь. И мы все знаем, как вместе с детством нарушается эта целостность, как входит в жизнь опыт зла, знание зла, разделения, горя, страдания. И вот тут, где-то около этого решающего момента человеческой жизни и начинается страшный бой за душу человека, и прежде всего за сохранение или утрату им первоначального опыта и самой жизни, и мира, и других людей как дара, как чего-то свыше, чего-то, исходящего из таинственного и светлого источника. Тут в какой-то момент все висит на волоске, и одна минута, одно слово или, может быть, отсутствие одного слова могут оказаться решающим.»
«Борьба за власть — квинтэссенция падшего мира. Чтобы спастись, нужно бежать власти. Какой бы то ни было, всякой… видимой и невидимой (например, власти над душами). Я готов думать, что в этом мире всякая власть — от дьявола. Как человечны люди, никакой власти не имеющие и ни на какую власть не претендующие».
«Удушающая тоска капитализма, «потребления», нравственная низость созданного ими мира. Я не сомневаюсь, что то, что идет на смену («левое»), еще страшнее и ужаснее <…> Первородный грех демократии — так, во всяком случае, мне кажется — это ее органическая связь с капитализмом».
«Может быть, это и есть основное духовное свойство всякой — в том числе и религиозной — буржуазности: закрытость к “трагизму”, на который обрекает, так сказать, само существование Бога <…> И, может быть, действительно “бедность” — центральный символ. И не в экономическом факте “бедности”, а в самом подходе к ней, к восприятию ее. Запад решил, что христианство призывает к борьбе с бедностью <…> И на это уходят все силы души… А христианский призыв совсем, совсем другой: к бедности как свободе, к бедности как “знаку”, что душа ощутила и восприняла невозможный (и потому для мира — трагический) призыв к Царствию Божьему…».
«Если человек гуляет, то потому, что ему это прописал доктор или он вычитал об этом в газете. В сущности, полное неумение наслаждаться жизнью бескорыстно, останавливать время, чувствовать присутствие в нем вечности… Американец, по-моему, боится довериться жизни: солнцу, небу, покою; он все время должен все это иметь under control. Отсюда — эта нервность в воздухе… И тоже эта постоянная направленность внимания на других, какая-то слежка всех за всеми».
«Я не верю в Бога, – говорит неверующий, – потому что вижу слишком много зла, страдания и бессмыслицы кругом. Если бы Он был, Он не допустил бы этого». – «Я верю в Бога, – говорит верующий, – потому что в самом аду зла, страданий и бессмыслицы я встретил и узнал радость, силу и правду веры».
«…суеверие от страха: человек боится. Боится отравы, боится неурожая, боится пожара, боится других людей. «В страхе, – говорит святой апостол Иоанн Богослов, – есть мучение» (1Иоан.4:18).
«Христианство устами святого Серафима Саровского говорит: «Спаси себя, и спасутся около тебя тысячи». Антихристианская идеология говорит: «Ты не спасешь себя иначе, как, прежде всего, переменой общества и его форм». Там – в христианстве, перемена, преображение самого мира зависит от личности, здесь – в материализме и коммунизме, перемена личности зависит от внешнего преображения общества. Отсюда, идя дальше, вытекает ударение христианства на личной свободе и личной ответственности человека, и, напротив, стремление материалистического коллектива до конца подчинить себе человека, слить его без остатка с партией, обществом, государством и так далее.»
Рискну добавить от себя — мы помним те времена, когда "работал" принцип коллективной безответственности. Не лучшие это были времена в плане созидания души человеческой. Но это мое частное мнение и поэтому никто не обязан его разделять, кроме единомышленников.